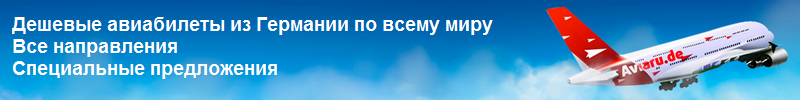24 февраля 2022 года Россия сделала шаг в бездну. И в эту бездну хочет втянуть за собой весь мир, создавая кризис за кризисом, разрушая мировой порядок и общечеловеческие ценности. Причём, если отбросить российское пропагандистское враньё, получается, что силы брошены для возвеличивания монстра, которого все должны бояться. Но посмотрите, это же признаки комплекса неполноценности! Похоже, российская недоимперия испытывает сейчас фантомные боли по ушедшим от неё Украине, Грузии, балтийским странам, по отколовшимся сателлитам – странам Восточной Европы. Но оправдания и прощения этому зверью, находящемуся в агонии, нет. И по большинству отзывов на это обращение я вижу, что мою точку зрения поддерживают люди чести любой национальности и гражданства.
– Леонид, во всех вариантах вашей биографии написано, что вы родились в Кишинёве, но своей родиной считаете Харьков. Почему?
– Да, родился я в Кишинёве. Папа был фронтовик, после ранения в боях Второй мировой попал туда на лечение и в Кишинёве познакомился с мамой. Родители не имели отношения к искусству, но музыку любили. Они сменили место жительства, когда я был ещё мал. Сознательная жизнь у меня началась в Харькове. С будущей женой Милой мы тоже там познакомились, и мы до сих пор вместе. Учились в одной специализированной музыкальной десятилетке. После окончания мне было уготовано место в Харьковской консерватории и предстояла гастрольная поездка с эстрадным ансамблем нашей филармонии. Но рационально объяснить, почему в 17 лет я решил вместо этого уехать на учёбу в Москву, до сих пор не могу. Это было некое озарение. Родители поддержали меня, и мы с мамой, а также небольшим чемоданчиком отправились в столицу СССР. Приём заявлений в консерваторию уже был завершён и оставался лишь Институт имени Гнесиных. Почти в последний момент успел сдать документы, и началась новая жизнь.
Хотя переживаний и трудностей в тот период тоже было очень много. На 2-м курсе я «переиграл» руки, оказался в клинике профессиональных заболеваний и получил неутешительный диагноз, что с игрой на фортепиано придётся расстаться. Тогда я сам стал себя восстанавливать медитациями, самовнушением. С трудом прикасался к клавишам, слушал звук, как бы любовался им, несмотря на боль. И, в конечном итоге, победил недуг.
– Вы учились в Москве, а окончили консерваторию в городе Горьком. В чём же дело?
– Меня в Гнесинском любили, я был в центре внимания, жил музыкой и буквально фонтанировал музыкальными идеями. Со времени московского джазового фестиваля 1966 года и многие годы спустя прочно удерживал титул лучшего джазового пианиста СССР. К тому же неплохо зарабатывал, от души приглашал к себе в общежитие друзей, готовил угощения. То есть был пульсаром по жизни. А когда ты в центре внимания, неизбежно возникают люди, которым этим недовольны. Хотя я, возможно, и сам был виноват, поскольку многое делал не по строгим правилам учебного заведения, переоценивал собственные возможности.
Конкретный конфликт произошёл с деканом фортепианного факультета Валерием Самолётовым. Все знали, что он аморальный тип, но крепко держался на должности и был мстительным. Самолётов мог устроить так, чтобы мне не поставили зачёт, влепили выговор, а потом и вовсе «условно» отчислили. Кстати, похожая история в нашем институте была с Иосифом Кобзоном, который тоже пришёлся не ко двору.
Думаю, что в числе причин моего преследования наверняка была и пресловутая «пятая графа». Всё происходило с дозволения, а может, и по инициативе ректора Гнесинского института Юрия Муромцева. Последний знаменит тем, что был во время войны членом «расстрельных» судилищ. Так что всё оказалось серьёзно. Кое-кто утешал, что меня так воспитывают. В этой ситуации профессор Московской консерватории, замечательный пианист и педагог Натан Мильштейн согласился взять меня в свой класс. Муромцев прослышал об этом и распорядился, чтобы отдел кадров Гнесинского института тянул до последнего и не отдавал мне документы. А когда сроки приёма в Московскую консерваторию прошли, я в последний момент прямо с чемоданом влетел на прослушивание в Горьковскую консерваторию. Другого варианта не было, но я и не жалею. Там через год получил диплом, сдав все экзамены экстерном. Ректором в Горьком был благороднейший человек Григорий Домбаев, которого я до сих пор вспоминаю с сердечной благодарностью. По тем временам он многим рисковал, взяв меня под защиту.
– Но Горьковская консерватория, как и любая другая, не могла дать диплом джазового пианиста.
– В этом всё дело. В 1971 году я решил осуществить свою мечту, доказав, что джаз – это дело профессионалов, и вывести его на академическую сцену. Ведь до тех пор джазмены были фактически самодеятельными музыкантами, которых на фестивалях изредка поддерживали комсомольские организации, а не музыкальные сообщества. Да, были оркестры, которыми руководили Олег Лундстрeм, Эдди Рознер и многие другие мастера, но идеологически они относились к эстраде, к лёгкой музыке. Но разве джаз это развлечение?
Для того чтобы сдвинуть дело с мёртвой точки, следовало идти на поклон в Министерство культуры СССР к Станиславу Лушину, от которого в музыкальном искусстве страны многое зависело. Вот там мне устроили ещё один экзамен. Чиновники столпились вокруг рояля, и этот «концерт по заявкам» продолжался часа четыре. Я рисковал ничего не приобрести, но всё потерять. Эта нешуточная угроза прозвучала от Лушина, который в конце прослушивания всё же сменил гнев на милость.
В Минкульте считали, что советский джаз должен быть идеологически выдержанным, а не подражать западному. Здесь у нас были явные разногласия, которые я предпочитал не озвучивать до поры до времени. Но мои первые пластинки – джазовые фантазии на темы Исаака Дунаевского, Александра Цфасмана – не были компромиссом. Я действительно любил их музыку, и она могла дать импульс к развитию того искусства, которым хотелось заниматься в будущем. Так что на первых порах я выглядел явным последователем советских музыкантов, к тому же поддерживая их виртуозные традиции.
– О советском джазе. Это, конечно, шутка, что джаз родился в Одессе? Вы ведь работали с Леонидом Утёсовым, знаете его вкусы.
– Ну да, это типичная одесская хохма. Боже упаси, какой это джаз? Там были внешние его атрибуты, такие как барабаны, саксофоны, ритм-группа… Музыканты сами определяли этот оркестр как «Санаторий Клары Цеткин». Леонид Осипович любил меня подначивать: «Тёзка, что ты берёшь какие-то аккорды с говнецом?» Но я играл своё и на него не обижался. Кстати, Утёсов помог мне получить московскую прописку. Он ведь был большим авторитетом. Отнёс все мои документы, многочисленные рекомендации в Моссовет Владимиру Промыслову. Говорили что на той руководящей должности Промыслов правил по времени больше многих московский князей. Так вот Утёсов добился разрешения на прописку, а в те годы это было немыслимой удачей. Тем более что у нас с Милой в 1968 году была свадьба, и вскоре родилась дочь Ирина. Так что все вздохнули с облегчением. И Утёсов, наверно, тоже, так как наши музыкальные вкусы явно не совпадали, и мы после двух лет работы расстались.
– Но после этих несомненных удач в вашей биографии всё же возникает Мюнхен.
– Я приехал в Мюнхен в 1991 году. Раньше здесь много играл, хорошо знал этот прекрасный город. Кстати, эмигрантом я не был. Когда началась перестройка, мне как успешному артисту Москонцерта было предложено создать хозрасчётную организацию. Такой стал джазовый центр Леонида Чижика. Потом он перерос в Московский Центр искусств. Моя квартира и офис были в знаменитом Доме на набережной, известном всем по роману Юрия Трифонова и одноимённому спектаклю Юрия Любимова в Театре на Таганке. Моя концертная ставка была 265 рублей, как у Святослава Рихтера. Казалось бы, чего ещё желать? Но уже в 1989−1990-х годах меня не покидало предчувствие общественных катаклизмов. Когда я видел съезды народных депутатов, осуждение Сахарова, появилось ощущение Грядущего Хама. Ведь побеждала серая масса, люди злобные, невежественные, которые, судя по развитию событий, могли занять первые роли в обществе, отравленном российским шовинизмом. Так оно, собственно, и произошло. Но я ведь думал, что смогу за рубежом переждать смуту, не видеть хаоса, уберечь семью. А когда меня стали обворовывать даже сотрудники и друзья, то понял окончательно, что надо уезжать. И воспользовался своим правом на зарубежную командировку по трёхлетнему контракту. С роялем, мебелью, нотами и, конечно, с семьёй. Думал, что отдохну от утомительных концертов, но не тут-то было.
– Судя по послужному списку, вы всегда вели гиперактивную концертную деятельность…
– Да, двадцать концертов в месяц было нормой. Но это же не просто обкатанная, заранее подготовленная программа, а импровизация. Потом окунулся в педагогическую работу. Причём не только в Мюнхене, но и в Веймаре. Каждую неделю отматывал туда и обратно тысячу километров. На моих уроках хотели присутствовать и будущие джазмены, и классические пианисты. Всегда был полный класс. На каждого студента приходилось полтора часа, с постановкой конкретных задач, актуальными вопросами и совместным поиском ответов.
– Германия – джазовая страна?
– Сейчас вся цивилизованная музыкальная Европа очень активно развивается в этом направлении. Джазменов много во Франции, Дании, Норвегии, Польше. Но джазовой страной может называться в полном смысле только Америка с её внутренней ментальной свободой. Хотя в Германии тоже много замечательных джазовых музыкантов. Не сочтите за нескромность – больше 150 человек прошло почти за 30 лет через мой класс. Из него вышло уже четыре профессора.
– Что же мешает сейчас увеличить их число?
– В Германии, да и в других европейских странах, когда достигаешь 65 лет, хочешь того или не хочешь, – иди отдыхать. Правда, выход на пенсию касается только госслужащих, а не тех, кто, например, работает по контракту в театрах. Меня держали на педагогической работе до 72 лет. Это своеобразный рекорд. Тяжело было, когда мой «локомотив» остановился. А потом в мире случилась пандемия. Казалось, жизнь замерла, и тогда взгляд устремился в себя. Я стал искать тепло, свет и покой. И уже, кажется, достиг такого умиротворения, как началась эта война…
– Но ведь вы даёте концерты? Очень хорошо помню такое выступление в Ландсберге, когда вы рассказывали и импровизировали на джазовые стандарты, связанные с еврейскими композиторами.
– Весь мелодический мир в джазе нашего времени на 90 процентов состоит из вечнозелёных стандартов композиторов еврейского происхождения. Когда музыкант импровизирует, ему важно, чтобы слушатели чувствовали себя причастными к процессу импровизации, знали первоначальную тему, которая, как правило, является шлягером. Песенным, взятым из мюзиклов и прочее. Для джазовых музыкантов это мир, в котором они должны свободно ориентироваться. И подключать слушателей к процессу импровизации. Но период любования стандартами давно закончился, и джаз стал гораздо сложнее. Хотя есть люди, которые ходят в джаз клубы именно для того, чтобы получить удовольствие именно от такого способа музицирования и общения. Я всё это прошёл ещё в юности, и сейчас думаю, что джаз должен развиваться, а не следовать только определённым привычным «ритуалам». Вы можете это увидеть на примерах моего обращения к классическим образцам, но уже с джазовой философией и эстетикой. Это три программы Моцарта, Генделя, Шопена, Чайковского, музыка моего кумира Малера – всех я играю со своими импровизациями. Вообще для творческого процесса на концертной эстраде поводом может быть что угодно. Во время поездки в Милан у меня была, например, импровизация, скорее даже медитация, на темы картин Марка Шагала…
– Было ли у вас желание написать книгу воспоминаний, эссе, размышлений об опыте джазмена и музыкального педагога?
– Книгу написать? Жизнь – это сегодня и завтра. А вчера это уже прошедшее время. К тому же у меня много рубцов, связанных с прошлым. Когда начинаешь вспоминать – всплывает всё, что связано с борьбой с идеологическими бонзами, с советскими казематами. Это не стоит того, чтобы вспоминать. Я предпочитаю жизнь в стиле импровизации. Собственно, такой она и есть. На этом языке надо общаться с миром. Я в каком-то смысле антагонист сухой академичности, представители которого всегда вынуждены надевать на себя какую-то маску, играть чужие роли, потому что в этом суть исполнительского искусства. И совсем немногие могут преподнести чужую музыку как свою собственную. Я думаю о том, что мир меняется каждую секунду, и играю с этим ощущением.
Беседу вёл Александр Чепалов